Cтерлядь на крючках самоловов | VN.RU
«Стерлядочка! Нельма! Осетринка!» расхваливают свой серебром переливающийся товар торговки на Центральном рынке и рынке на Приморской. Для периодически захаживающих в рыбные ряды инспекторов рыбоохраны сразу выдается обкатанная версия рыба привозная. Возможно, и так. Однако новосибирские любители свежей стерлядки знают, если потереться перед прилавками, можно сговориться о доставке свежей рыбки, чтоб и трепетала, и по весу была, сколько закажешь. Сервис нынче не то, что в советские времена, может, действительно заказанную рыбу доставляют из того же Томска самолетом. Но есть немало оснований считать, что рыбка наша, новосибирская.
Жертва браконьеров
До строительства Новосибирской ГЭС главные нерестилища обских осетра, нельмы, стерляди, пеляди находились в районе Камня-на-Оби, говорит бывший рыбовод, председатель общественной организации «Новосибирский областной комитет охраны водных ресурсов» Галина Кучина. Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что русловая часть Оби в приплотинной зоне Новосибирского гидроузла, использовавшаяся до зарегулирования стока как миграционный путь к верхнеобским нерестилищам, до сих пор остается привлекательной для нереста и нагула молоди рыб этих видов. Мы считаем, данной акватории необходимо придать статус «Особо охраняемой территории». Естественно, создание охранного режима в этой зоне Оби должны предварить расширенные исследования.
Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что русловая часть Оби в приплотинной зоне Новосибирского гидроузла, использовавшаяся до зарегулирования стока как миграционный путь к верхнеобским нерестилищам, до сих пор остается привлекательной для нереста и нагула молоди рыб этих видов. Мы считаем, данной акватории необходимо придать статус «Особо охраняемой территории». Естественно, создание охранного режима в этой зоне Оби должны предварить расширенные исследования.
«Улов» на приплотинном участке эколога Галины Кучиной и Сергея Кротикова, начальника отдела рыбоохраны Россельхознадзора
За сохранение нерестилищ в приплотинном участке Новосибирской ГЭС общественная организация бьется уже несколько лет. Безуспешно. Ответ чиновников обескураживает: какая может быть особо охраняемая территория, если осетр, стерлядь, муксун, нельма и так занесены в Красную книгу. Излишне говорить, что денег на финансирование исследований специализированными научными организациями, которых экологи предлагали привлечь к этой работе, не нашлось ни в Главном управлении природных ресурсов по Новосибирской области, ни в ФГУП «Верхнеобьрыбвод», ни в областной администрации, куда общественники обращались за помощью. Помогли в Фонде Глобал Грингрантс (ГГФ). Средства, предоставленные по гранту невелики, но именно благодаря им «Новосибирский областной комитет охраны водных ресурсов» смог продолжить работу. «Жаль, что вместе с нами не было никого из чиновников, считающих, раз осетр, стерлядь, нельма занесены в Красную книгу, значит и никакого охранного режима на приплотинном участке не нужно, говорит Галина Николаевна. Процветающее здесь браконьерство главный аргумент за то, что район нижнего бьефа Новосибирской ГЭС продолжает оставаться местом нерестилищ особо ценных пород рыб.»
Помогли в Фонде Глобал Грингрантс (ГГФ). Средства, предоставленные по гранту невелики, но именно благодаря им «Новосибирский областной комитет охраны водных ресурсов» смог продолжить работу. «Жаль, что вместе с нами не было никого из чиновников, считающих, раз осетр, стерлядь, нельма занесены в Красную книгу, значит и никакого охранного режима на приплотинном участке не нужно, говорит Галина Николаевна. Процветающее здесь браконьерство главный аргумент за то, что район нижнего бьефа Новосибирской ГЭС продолжает оставаться местом нерестилищ особо ценных пород рыб.»
Этим летом экологами были взяты пробы грунта на участке Оби от 685 до 695 км по лоцманской карте. Кстати, все три показали, что донные отложения представлены песчано-галечным грунтом, который предпочитают для нерестилищ осетровые и сиговые породы рыб. Взятие проб напротив села Огурцово чуть было не закончилось для экспедиции плачевно: винт моторки едва не запутался в капроновых нитях самолова. В августе на этот участок выехали уже специально с сотрудником Россельхознадзора. За два часа было снято 12 концов самоловов абсолютно варварских орудий лова. Браконьерская мысль не дремлет тут и самоловы с блеснами, лесками и резинками, крепящимися к грузу. Незаметная ветка, щепка, странно задержавшаяся на течении, единственный опознавательный знак страшного устройства. Есть и самоловы, перегораживающие значительную часть реки. На бечевке на расстоянии 2530 см друг от друга крепятся крючки-самоловы рыбе мимо практически не пройти: либо боком сядет на крюк, либо хвостом зацепится. Живых, точнее жизнеспособных, как уточнила Галина Кучина, с самоловов сняли только две стерлядки, сразу же отпустив их на волю. Остальные рыбы, ухваченные за бока хищными крюками, были уже мертвы. Увидите такую на рынке, знайте, откуда рыбка.
За два часа было снято 12 концов самоловов абсолютно варварских орудий лова. Браконьерская мысль не дремлет тут и самоловы с блеснами, лесками и резинками, крепящимися к грузу. Незаметная ветка, щепка, странно задержавшаяся на течении, единственный опознавательный знак страшного устройства. Есть и самоловы, перегораживающие значительную часть реки. На бечевке на расстоянии 2530 см друг от друга крепятся крючки-самоловы рыбе мимо практически не пройти: либо боком сядет на крюк, либо хвостом зацепится. Живых, точнее жизнеспособных, как уточнила Галина Кучина, с самоловов сняли только две стерлядки, сразу же отпустив их на волю. Остальные рыбы, ухваченные за бока хищными крюками, были уже мертвы. Увидите такую на рынке, знайте, откуда рыбка.
Браконьерам Красная книга не указ. Только силами Россельхознадзора сохранить особо ценные виды рыб не реально: для этого его численность пришлось бы увеличить в несколько раз. Сохранить не можем, разведением краснокнижных рыб не занимаемся. Заложенное еще в советские времена на приплотинном участке ГЭС рыбоводное предприятие, которое по идее инициаторов Сибирской рыбоводно-акклиматизационной станции должно было использоваться для разведения особо ценных пород рыб, так и не достроено. Денег хватило только на строительство коробки здания, ни электро-, ни водоснабжения сделать не успели. Нынешний владелец недостроенного корпуса ОАО «Новосибирскрыбхоз», судя по трескающимся от времени стенам и затянутой зарослями травы площадке, в введении рыбоводного предприятия в эксплуатацию не заинтересован. Сейчас на долгострой появился новый претендент Новосибирский агроуниверситет, готовый изыскать средства, чтобы рыбоводное предприятие наконец-то заработало, а студенты, обучающиеся по специальности «рыбоводство», получили место для проведения практики. Экологи надеются, что вопрос все-таки будет решен. Если уж у серьезных организаций, занимающихся охраной рыбных ресурсов, до нерестилищ и разведения особо ценных пород рыб не доходят руки, может, это удастся сделать Агроуниверситету и его студентам.
Заложенное еще в советские времена на приплотинном участке ГЭС рыбоводное предприятие, которое по идее инициаторов Сибирской рыбоводно-акклиматизационной станции должно было использоваться для разведения особо ценных пород рыб, так и не достроено. Денег хватило только на строительство коробки здания, ни электро-, ни водоснабжения сделать не успели. Нынешний владелец недостроенного корпуса ОАО «Новосибирскрыбхоз», судя по трескающимся от времени стенам и затянутой зарослями травы площадке, в введении рыбоводного предприятия в эксплуатацию не заинтересован. Сейчас на долгострой появился новый претендент Новосибирский агроуниверситет, готовый изыскать средства, чтобы рыбоводное предприятие наконец-то заработало, а студенты, обучающиеся по специальности «рыбоводство», получили место для проведения практики. Экологи надеются, что вопрос все-таки будет решен. Если уж у серьезных организаций, занимающихся охраной рыбных ресурсов, до нерестилищ и разведения особо ценных пород рыб не доходят руки, может, это удастся сделать Агроуниверситету и его студентам.
Виктор Петрович Астафьев (1924-2001)
В.П. Астафьев родился в сибирском селе Овсянка, на берегу Енисея, недалеко от Красноярска. Он рано лишился матери, которая утонула в реке, зацепившись косой за сплавную бону. Воспитывался мальчик в семье бабушки и деда. Впечатления детства отражены в его рассказах «Конь с розовой гривой» и «Фотография, на которой меня нет». Когда в стране началась коллективизация, В. Астафьев оказался вместе с семьей в числе «спецпереселенцев» в Заполярье, в Игарке. Он сбежал от мачехи, бродяжничал, попал в детский дом.
Когда началась Великая Отечественная война, отдельным категориям переселенцев разрешили вернуться в родные края. В. Астафьев окончил железнодорожную школу фабрично-заводского образования и работал составителем поездов под Красноярском. Осенью 1942 года он ушел на фронт, был шофером, артразведчиком, связистом. Осенью 1943 года на Днепровском плацдарме его тяжело ранили. Поправившись, он вновь вернулся в действующую армию. После Победы уехал с женой на ее родину — на Урал.
В. Астафьеву пришлось переменить много профессий, чтобы зарабатывать на жизнь. В 1951 году в газете «Чусовской рабочий» был опубликован его первый рассказ «Гражданский человек». Известность ему принесли повести «Перевал», «Звездопад», «Кража». С 1959 по 1961 год В. Астафьев учился на Высших литературных Курсах в Москве. Жил в Перми, Вологде, а в 1980 году переехал на родину — в Красноярск. Перу писателя принадлежат такие замечательные произведения, как романы «Царь-рыба» и «Печальный детектив», трагическая тема войны звучит в повести «Пастух и пастушка», которую автор переписывал несколько раз и назвал современной пасторалью. О войне написан и роман «Прокляты и убиты» (книга первая — «Чертова яма», книга вторая — «Плацдарм»).
Роман «Царь-рыба», созданный в 1970-х годах, поднимает многие проблемы людей современного общества. Часто это проблемы нравственные.
Одна из глав повествования тоже называется «Царь-рыба». Речь в ней идет об обитателях поселка Чуш на Енисее. Взаимоотношения двух братьев Утробиных предстают перед читателем.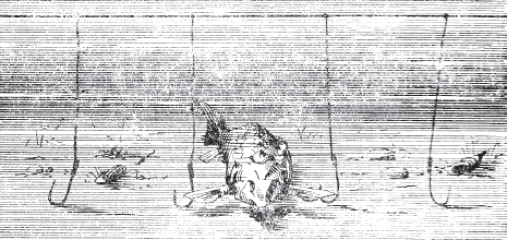 Младший брат — командор, капитаном на пароходике плавал. Старший брат Зиновий Игнатьич работал на пилораме, но слыл в поселке механиком, культурным хозяином. Он вежлив, аккуратен, трезв, сноровист как никто, как будто не в этой деревне родился, вырос и вскормлен. «Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина». Командор сначала вытеснил брата с богатых рыбных мест, потом, увидев, что на самоловы Игнатьича пошла стерлядь хоть реже, но зато самая отборная, ружье на него поднял — на брата! Зависть обуяла. И хотя после этого прощение у старшего брата просил, однако знал, что когда-нибудь встретятся они на узкой дорожке и не разойдутся.
Младший брат — командор, капитаном на пароходике плавал. Старший брат Зиновий Игнатьич работал на пилораме, но слыл в поселке механиком, культурным хозяином. Он вежлив, аккуратен, трезв, сноровист как никто, как будто не в этой деревне родился, вырос и вскормлен. «Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина». Командор сначала вытеснил брата с богатых рыбных мест, потом, увидев, что на самоловы Игнатьича пошла стерлядь хоть реже, но зато самая отборная, ружье на него поднял — на брата! Зависть обуяла. И хотя после этого прощение у старшего брата просил, однако знал, что когда-нибудь встретятся они на узкой дорожке и не разойдутся.
Но оба брата, как и многие в поселке, браконьерством, ворначеством занимались. Самоловы их рыбнадзор выслеживает, улов их незаконный, преступный, поэтому тайный. И каждый из рыбаков, пропадая на реке, мечтает поймать царь-рыбу, о которой были и небылицы рассказывают и которая не всякому дается.
Еще дедушка Утробин, заядлый рыбак, учил внуков рыбацким хитростям: «Ты как поймаш, Зиновей, малу рыбку — посеки ее прутом. Сыми с уды и секи да приговаривай: «Пошли тятю, пошли маму, пошли тетку, пошли дядю, пошли дядину жану!» Посеки и от-пущай обратно и жди. Все будет сполнено, как ловец велел». Еще дедушка учил: богоданную, желанную царь-рыбу «лучше отпустить, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать о ней, искать ее».
И вот старшему Утробину удалось изловить небывалого осетра, только победителем над рыбой он никак не мог стать, несмотря на свой большой опыт и на то, что рыбина была поранена крючками и потеряла много крови. Она вышибла из лодки ловца, крючки самолова впились и в рыбака тоже, а рыба заостренной мордой прижалась к своему губителю и тянула на дно.
Сначала на помощь звать Игнатьич не хотел: делиться придется, а в осетре икры ведра два. А позже уже и некого было звать. Погибал рыбак и опять дедушкины слова вспоминал. Нельзя на царь-рыбу ходить, если есть на душе грех какой. Казалось, какие грехи у такого примерного и приличного человека. А жадность-то! Рыбачит втихую, хапает, ни до чего ему дела нет. Был председателем школьного родительского комитета — переизбрали, депутатом хотели выдвинуть — отвели, в народной дружине тоже его нет — он все время в погоне, ему некогда. И рыба уж кажется ему оборотнем, который прижимается к его боку и желает его погибели. «Не хочу! — завизжал Игнатьич, брата стал звать. — Брательник!» Вспомнил, значит, брата, Бога стал просить, хоть ни в кого вроде не верил: ни в Бога, ни в черта.
Нельзя на царь-рыбу ходить, если есть на душе грех какой. Казалось, какие грехи у такого примерного и приличного человека. А жадность-то! Рыбачит втихую, хапает, ни до чего ему дела нет. Был председателем школьного родительского комитета — переизбрали, депутатом хотели выдвинуть — отвели, в народной дружине тоже его нет — он все время в погоне, ему некогда. И рыба уж кажется ему оборотнем, который прижимается к его боку и желает его погибели. «Не хочу! — завизжал Игнатьич, брата стал звать. — Брательник!» Вспомнил, значит, брата, Бога стал просить, хоть ни в кого вроде не верил: ни в Бога, ни в черта.
Да, видно, не все муки он испытал и не все грехи свои вспомнил. Был еще грех у него на душе — Глашка Куклина. По молодости еще ревновал Зиновий Глашу к приезжему лейтенанту и проучил, как старшие мужики учили. Обнимал, целовал, а потом пинка дал, так что бухнулась девчонка в воду, утонуть не утонула, а уж сколько слез выплакала — кто знает. Сначала Зиновий похвалялся своим поступком, а потом винился, каялся, но прощения не получил.